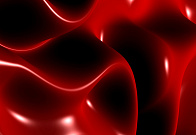В позолоченной клетке


Но к такому прагматизму советская власть пришла далеко не сразу. Кажется, в первые несколько лет после Октябрьской революции большевики вообще не вполне представляли, нужны ли государству рабочих и крестьян профессора и инженеры. С одной стороны, ни к пролетариату, ни к буржуазии интеллигенцию отнести было нельзя – что делать с ней, всесильное учение Маркса не говорило. Ее представители оказались в числе тех, кого новая власть окрестила жутким словом «бывшие»: вроде бы и не классовые враги, но места в новом обществе им тоже нет. С другой стороны, специалисты, особенно технических специальностей, были необходимы для проведения индустриализации, для воспитания «новой», рабочей интеллигенции. Наконец, старые революционеры понимали, что и сами они – далеко не рабочая кость. И хотя, например, Крупская публично признавала, что «непролетарского происхождения был и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и сотни других борцов за рабочее дело», гораздо чаще власть руководствовалась логикой булгаковского персонажа, готового и Канта отправить «года на три на Соловки».

Уже в 1924 году (лагерь был открыт всего за год до этого) на Соловках появились и свои журналы, и свое научное общество – Соловецкое общество краеведения (СОК). Его участники изучали историю и культуру Соловков, вели естественнонаучные исследования. Летом начинался полевой сезон: заключенные собирали коллекции флоры и фауны, выявляли и описывали архитектурные и археологические памятники. Зимой подводились итоги экспедиций: читались доклады, устраивались диспуты.

В 1934 году в связи с ужесточением режима закончилась история СОК, спустя три года был закрыт соловецкий музей. Таких вольностей, как реставрация икон или изучение видового разнообразия орнитофауны Беломорья, больше не было ни на Соловках, ни в других лагерях. В 30-е годы ученых зека если и использовали по специальности, то стремились заставить их решать более практические задачи. Империя ГУЛАГа росла, заключенные строили заводы и города, прокладывали дороги, разрабатывали месторождения угля, золота, урана. Практически при каждом лагере существовало инженерно-техническое бюро, геологоразведочная и геодезическая службы. Лагерные производства нуждались в квалифицированных специалистах. Недостатка в них не было – вредительские группы «вскрывались» на предприятиях и в учебных заведениях по всему Советскому Союзу.
Шарашки возникали не на пустом месте: их специализация соответствовала тому, какая промышленность была развита в том или ином районе страны. Так, ленинградские ОКБ специализировались на военно-морских разработках. ОКБ-172 в «Крестах» проектировало артиллерию для боевых кораблей, ОКБ-196 (ныне – ЦКБ «Рубин») – подводные лодки, СКБ-5 (завод «Алмаз») – торпедные катера. Сконструированные в шарашках экспериментальные образцы техники направлялись для серийного производства на «обычные» военные заводы того же профиля. При необходимости их сотрудники консультировали своих заключенных коллег. Такие встречи происходили в отделениях НКВД, и никто не мог поручиться, что вызванный туда консультант в скором времени не станет соседом того, кто обратился к нему за советом. По воспоминаниям инженера-судомеханика Валентина Акулова, когда в ОКБ-172 понадобилось усилить математический сектор, в «Кресты», предварительно арестовав, доставили профессора из Саратовского университета.
Основу коллектива шарашки составляли, как правило, люди, знавшие друг друга по работе на свободе. Иногда в заключении оказывались целые конструкторские бюро и инженерные отделы. Созданию ОКБ-172 предшествовало раскрытие в 1936 году троцкистско-зиновьевского заговора на ленинградском заводе «Большевик» (Обуховский завод). Когда стало ясно, что в подмосковной шарашке, руководимой авиаконструктором Андреем Туполевым, уже сложно разместить весь ее коллектив (помимо заключенных инженеров и техников в ней трудилось еще несколько сотен вольнонаемных технических работников низкой квалификации), ее просто переместили обратно в Конструкторский отдел сектора опытного самолетостроения ЦАГИ, которым Туполев руководил до ареста.
Централизованное управление шарашками позволяло ставить перед ними любые задачи в обход планов пятилеток и требовать их выполнения, несмотря ни на что. Принципиальная выполнимость не всегда волновала руководство страны: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Только чудом Туполеву удалось переубедить Берию, что четырехмоторный пикирующий бомбардировщик – затея абсолютно бессмысленная: летающая машина с четырьмя двигателями была бы слишком громоздкой и не смогла бы не то что пикировать – хотя бы долететь до дальних целей не подбитой.

Успешное решение поставленной задачи могло принести группе разработчиков досрочное освобождение, неудача расценивалась как саботаж и, в лучшем случае, сулила возвращение в обычный лагерь. Его отличие от шарашки хорошо понимали и те, для кого ОКБ было первым местом отсидки, и особенно те, кто попал сюда после нескольких лет Сибири или Магадана. Шок заключенного, попавшего в шарашку из обычного лагеря, описан и в солженицынском «В круге первом», и во многих мемуарах.
Вот как вспоминал свой первый день в шарашке этапированный в Ленинград из Архангельской области инженер-артиллерист Сергей Фомченко: «Передо мной поставили глубокую эмалированную миску, полную до краев нарезанными горячими сосисками, политыми томатным соусом. <…> В столовой я оказался единственным в телогрейке – костюмы, рубашки, галстуки… Боже мой, куда я попал?»
То, что поначалу могло показаться раем, через несколько недель представлялось всего лишь «кругом первым» гулаговского ада. Метафору в заглавии романа, познакомившего с шарашками весь мир, придумали коллеги Солженицына по Марфинской шараге (ныне – НИИ «Автоматика»), разрабатывавшие шифровальные системы. Ученые в ОКБ, как античные философы в первом круге дантовского ада, уже не страдали физически, но покинуть место своего заключения не могли. Да, они курили папиросы, а не махорку, ходили в цивильном, а не в ватниках с номерами и получали пайку, которой могли позавидовать многие на воле. Но они оставались заложниками государства, которое по неведомым причинам могло их и казнить, и миловать.
На свободе одних ждали, а других отчаялись ждать жены и родители. Без них росли дети. Дочь Сергея Королева Наталья хранит книжки, подаренные к праздникам от папы-летчика, который «выполняет секретное задание и не может лично ее поздравить». Поздравления на форзацах писала мама – Сергей Павлович с 1938 по 1944 год находился в заключении, с 1940-го – в Туполевской шараге. Когда ему, наконец, дали свидание с семьей в Бутырке («папа прилетел всего на час»), дочка спросила его, как он смог приземлиться на небольшом тюремном дворе. За отца ответил охранник: «Эх, девочка, сесть-то сюда легко, а вот улететь намного труднее».
После смерти Сталина ОКБ упразднили, заключенных освободили и в середине 1950-х большую часть их без лишнего шума реабилитировали. Вплоть до Перестройки лагерные 1930–1940-е годы зияли дырами даже в биографиях таких легендарных советских конструкторов, как Поликарпов, Петляков, Туполев, Королев. Роман «В круге первом», который в 1964 году готовился Солженицыным для официальной советской публикации, не вышел в СССР даже в сокращенном варианте. Но тема подневольного труда ученых и инженеров, замалчиваемая в официальных публикациях, не была секретом ни для читателей самиздата, ни для тех, кто сколько-нибудь был знаком с бывшими заключенными – коллегами по НИИ или КБ, университетскими профессорами.
Отсутствие однозначной общественной оценки политических репрессий в целом и системы шарашек в частности приводит к попыткам найти рациональное зерно в действиях властей. Переоценить то, что не нуждается в противоречивых оценках. Это уже не «стокгольмский синдром» – апологеты Сталина и Берии, как правило, сами в лагерях не сидели. Их рассуждения об «эффективности сталинского менеджмента», звучащие и on-line, и в тысячетиражных fiction- и non-fiction-поделках, малообоснованы и попросту циничны – так же можно рассуждать о преимуществах просторных клеток с позолоченными прутьями, не обращая внимания на умирающих в них диковинных птиц, которым «сесть-то сюда легко, а вот улететь намного труднее».
Общество
Дмитрий Козлов

 Не кисло: как выбрать «правильный» кефир
Не кисло: как выбрать «правильный» кефир Разность потенциалов
Разность потенциалов Доказано веслом
Доказано веслом