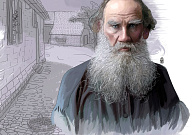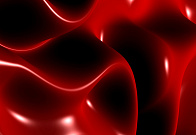Зелейщик на миллион


Россия шла по тому же пути: к примеру, в конце XIX века рядом со знаменитой аптекой Пеля на 7-й линии Васильевского острова в Петербурге появились органолептический институт профессора Пеля и сыновей и фармацевтическая фабрика, где работало 225 человек. Но с выходом на старт масштабного производства лекарств Россия все же задержалась. Только через 200 лет (!) после петровского указа – 12 июля 1902 года – вышел Закон «О фабричном производстве сложных фармацевтических препаратов». В числе первых фабрик – Товарищество «В. К. Феррейн» в Москве (1902), завод «Фармакон» в Санкт-Петербурге (1907), акционерное общество торговли аптекарскими товарами «В. Х. Грахе» в Казани (1909). Накануне Первой мировой войны у нас было уже около 400 фармацевтических предприятий. Крупнейшее из них, завод «Феррейн», выпускало 175 наименований препаратов. Однако в России почти не производились такие сложные и «актуальные» на то время средства, как алкалоиды (морфин, стрихнин, хинин, кофеин, атропин, эфедрин), салициловые (аспирин) и висмутовые (ими лечили сифилис) препараты.
Пока Советский Союз решал проблемы становления, на Западе в 1920–1930-х годах были открыты инсулин (1922) и пенициллин (1928), налажено их производство. Наиболее развитой фармацевтической промышленностью перед Второй мировой обладали Швейцария, Германия и Италия, за ними следовали Великобритания, США, Бельгия и Голландия. В это время было разработано и законодательство, регулирующее процесс тестирования и одобрения лекарств, а также использования брендов запатентованных препаратов.

Почему этих «долгожителей» не заменят современные препараты? Опять же, почему бы не изобрести что-то новенькое? Да потому, что путь из исследовательской лаборатории до аптеки и больного не только долог, но и дорог. «От поиска действующего вещества до клинических испытаний готовой формы проходит 10–15 лет, – рассказывает профессор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Геннадий Яковлев. – Причем на каждом этапе высок риск получения отрицательного результата». На практике это выглядит примерно так: из 1000 препаратов, которые начинают разрабатываться как перспективные, до пациента доходит всего один. Если говорить о цене вопроса, то по данным отчета исследовательского центра Tufts Center for the Study of Drug Development средняя стоимость клинических испытаний одного препарата за последние десять лет выросла в два раза: с $ 1,2 млрд в начале 2000-х годов до $ 2,6 млрд в 2014-м. Поэтому не стоит удивляться, что и цена оригинальных препаратов в аптеках столь высока.
Более дешевый путь – воспроизведение дженериков, лекарственных средств, на действующее вещество которого истек срок патентной защиты (в разных странах он различен). Тут в выигрыше не только пациент, но и система здравоохранения в целом – она тоже минимизирует расходы. В 1980–1990-е годы здравоохранение государств Западной Европы и США ориентировалось на оригинальные лекарства, но в 2000-е там стали расширять применение дженериков. В Европе они составляют около половины всех лекарств, выписываемых врачами. То же и в США.
Впрочем, в России ценообразование – уязвимое место. Еще несколько лет назад некоторые дженерики в российских аптеках стоили дороже оригинальных препаратов. Сейчас приняты меры, чтобы не допускать этого. Минздравом России совместно с Федеральной службой по тарифам была подготовлена методика регистрации цен. Она предусматривает сравнение заявленной к регистрации цены с теми, что существуют в 21 стране мира, – чтобы стоимость для российского потребителя была объективна.
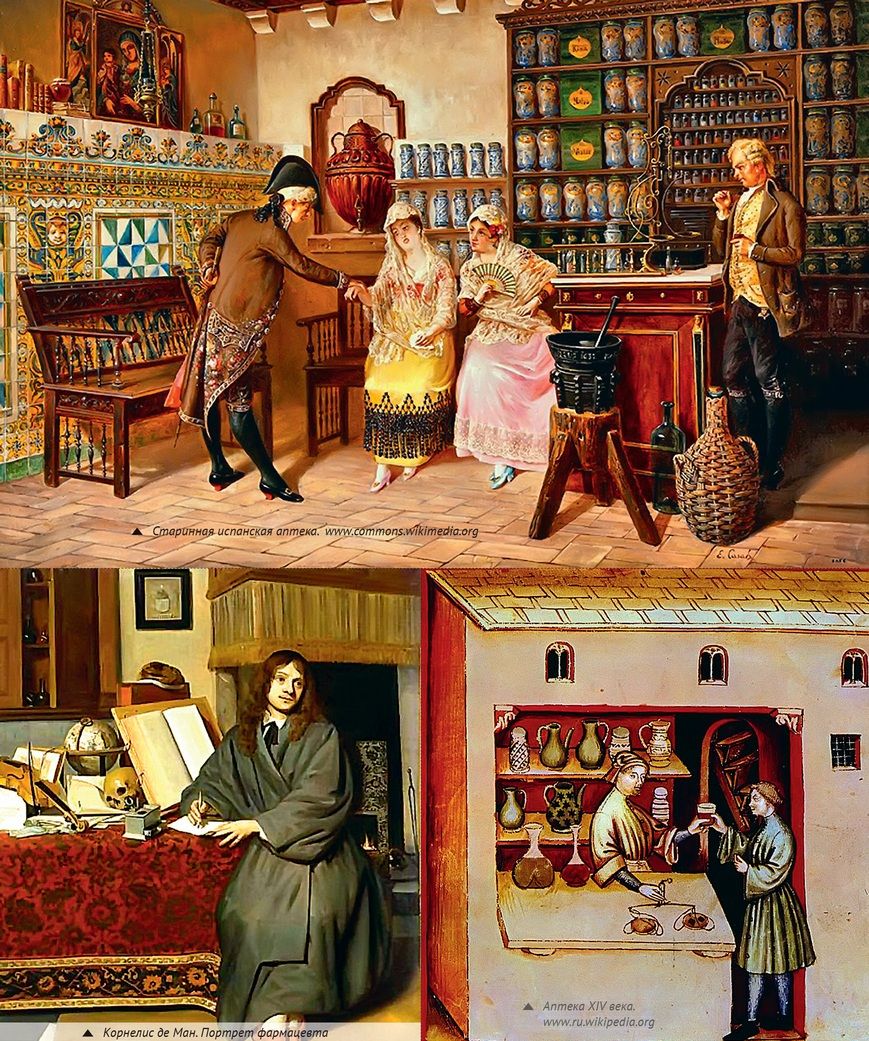
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года 8 из 10 основных передовых препаратов будут биофармацевтическими, то есть в их основе будут сложные макромолекулы, идентичные существующим в живых организмах. Уже сегодня к ним относятся свыше 30 % всех новых молекул, которые разрабатываются мировыми фармкомпаниями, и в ближайшие годы эта величина достигнет 50 %.
Другие ниши мирового фармрынка, где еще можно занять достойное место, связаны с нерешенными проблемами медицины, например, такая «хроническая» проблема, как борьба с устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам. Существующие антибактериальные препараты уже давно не так эффективны, как хотелось бы, и за последние 30 лет не открыто ни одного нового класса антибиотиков. Стоимость лечения инфекций, вызванных устойчивыми микробами, уже выросла в 10–80 раз, и при этом все равно не всех больных удается спасти: только в странах Евросоюза ежегодная смертность по этой причине составляет свыше 25 тысяч человек.

Полвека назад, оканчивая медицинский институт, новоиспеченный терапевт должен был знать порядка 120 препаратов – этого было достаточно. Сегодня преподаватели не запрещают студентам во время экзамена пользоваться справочником, так как свыше 4000 лекарств более чем 300 фирм-производителей удержать в голове попросту нереально.
Наиболее активными потребителями лекарств в Европе являются жители Германии – в год они тратят на их приобретение в среднем 190 евро. На втором месте французы – более 150, затем итальянцы – свыше 140. Причем ежегодно во всех европейских странах эти суммы возрастают.
Наука
Олег Починюк


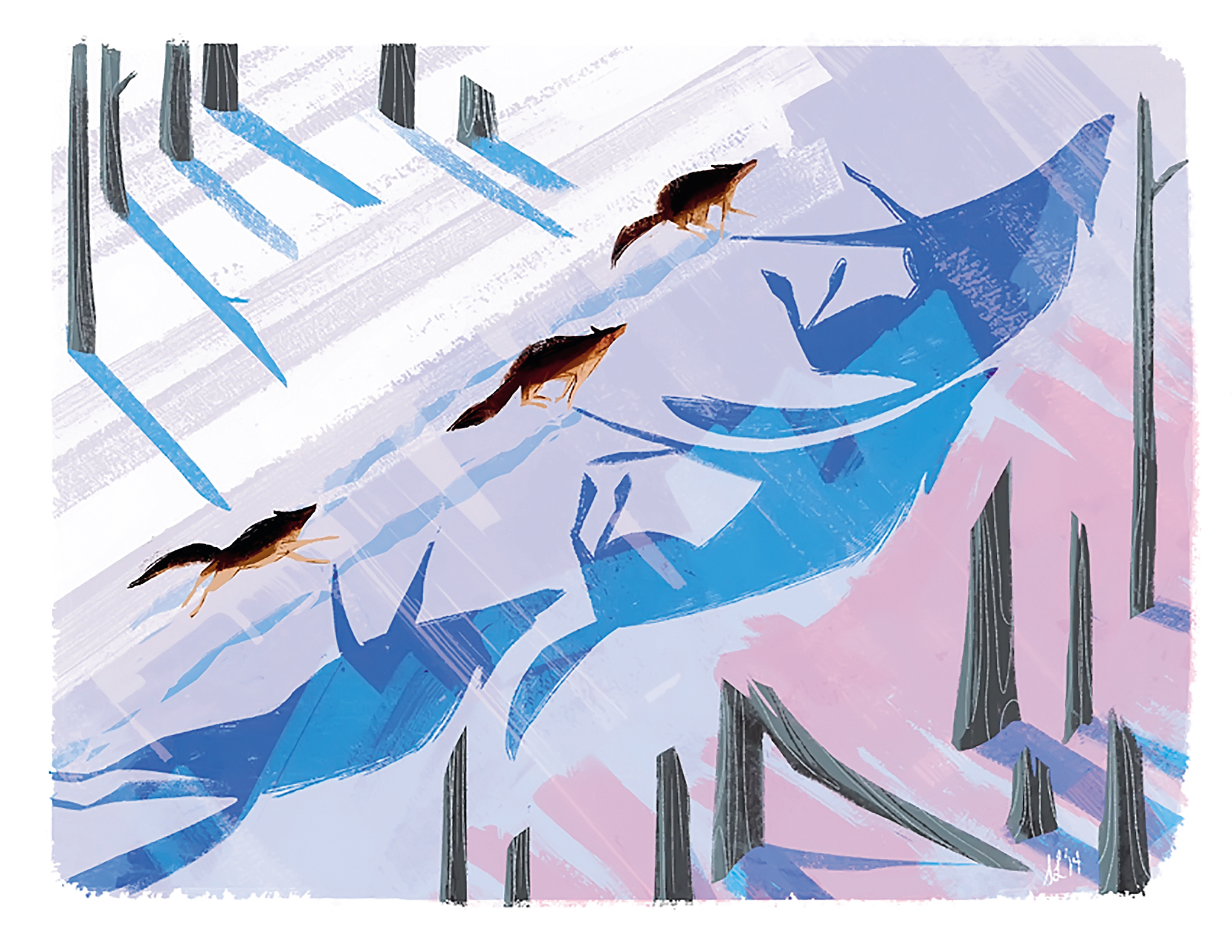 ММ-блиц: июнь 2018
ММ-блиц: июнь 2018 Приказ по армии искусства
Приказ по армии искусства Первый свет Вселенной
Первый свет Вселенной