Автор: Иван Глотов. Иллюстратор: Анна Классен.
Тюремная решетка, рассекающая комнату для свиданий напополам, отделяла меня от посетительницы. Выглядела та лет на двадцать пять, может, чуть больше. Строгое белокожее лицо, тонкий нос, брови стрелами, черные до плеч волосы и черные же глаза. Не красавица, но нечто эдакое в ней было. Порода, что ли, думал я, разглядывая визитершу через прутья решетки. На пройдошистых и настырных марстаунских журналисток она была не похожа, но смотрела на меня пристально и пытливо, будто вдумчиво изучала редкостного жука под стеклом инсектария.
– Я не даю интервью, – бросил я. – Напрасно пришли.
Посетительница не отреагировала, и с минуту мы играли в молчанку.
– Я не журналистка, – прервала она наконец паузу. – И вообще не местная, на Марс я прилетела вчера. Мое имя – Женевьева Лекруа.
Я отшатнулся, почувствовав себя так, будто поймал пощечину.
– Вы… вы… – пробормотал я, запинаясь. – Зачем вы здесь?
– Я здесь, чтобы посмотреть на человека, убившего моего отца.
Я хватанул сердцем осколок сдетонировавшей в грудной клетке мины. Этого только недоставало, мучительно думал я. Дочь Жана Лекруа. Человека, которого я застрелил.Он был усат, плешив и толст, этот Жан Лекруа, с вислым крючковатым носом и маслянистыми черными глазками, которыми провожал всех фигуристых девиц на борту «Солнечного ветра». А еще был он добродушен, остроумен и артистичен – в кают-компании пассажиры хохотом заходились от его анекдотов. Деньгами сорил, не думая: судовой шеф-повар получил чаевых на десять тысяч за один только ужин.
– Скажите, господин Стишков, – медленно произнесла визитерша. – Вам было жалко его? И остальных? Когда убивали.
Осколок методично терзал мне внутренности. Будь я богат, все бы отдал, чтобы никогда не видеть ее, не слышать ее голоса.
– Прошу вас, уйдите, – выдавил я из себя. – Я и так достаточно наказан.
С учетом всех обстоятельств за тройное убийство я получил пятнадцать лет срока. С отбыванием в одиночной камере марстаунской федеральной тюрьмы. Видимо, посетительница срок этот достаточным не считала.
– Окажись я на вашем месте, я, наверное, покончила бы с собой, – сказала Женевьева тихо.
Сердце отпустило. Я подался к ней, приложившись лбом о решетку и не почувствовав боли. Мне внезапно показалось, что она хочет помочь.
– У вас есть яд? – выдохнул я.
Женевьева Лекруа поднялась. Повернулась и медленно пошла прочь.
– Постойте! – крикнул я ей в спину. – Умоляю, поверьте, я раскаиваюсь. Я не хотел, не должен был… Я… Будь я проклят! Я и так… И так проклят.
Женевьева обернулась через плечо. Закусив губу, заглянула мне в глаза.
– Вы верующий?
Жан рассказывал о ней, внезапно вспомнил я. В первый же вечер, когда собрались в кают-компании и стали знакомиться. Зашел разговор о религии, Оливия еще упомянула утреннюю службу в Ватикане. И тогда Жан, как же он сказал… «Ненавижу святош. Моя дочь ушла из семьи, стала сектанткой…» Потом назвал секту, я не запомнил. Что-то несуразное: всепрощение, добродетель, жертвенная любовь и тому подобная чушь. Проклятье…
– Вы верите в Бога? – повторила вопрос Женевьева.
– Нет. – Я закрыл руками лицо. – Я атеист.

Убитые снились мне в кошмарах каждую ночь. Иногда порознь, иногда все втроем. А изредка – в компании с живой Маршей.
– Матвей Стишков, – сдвинув брови, гортанно говорил Артур Григорян. – Дрянь ты, Матвей Стишков.
Накачанный, спокойный, с перебитым когда-то носом и стрижкой «под ноль», Артур единственный из всех не поддался панике ни во время катастрофы, ни после. Даже когда спасательную капсулу догнал выброс взрывной энергии и нас пятерых едва не искромсало о переборки, Артур не орал истошно, как остальные, а ждал смерти молча, с достоинством.
– Я ошиблась в вас, Матвей, – вторила Григоряну Оливия Ролла. – Я так надеялась на вас. А вы меня – убили.
У нее были густые русые волосы, теплые темные глаза. Вокруг них появлялась паутинка морщин, когда Оливия улыбалась. Годы смягчили очертания точеной фигурки и высушили пальцы, уже заметно не девичьи. Неизменным остался голос. Голос оперной певицы – глубокий, бархатный, обволакивающий… Я до последнего не верил, что сумею поднять на нее руку.
Одна Марша, когда виделась мне во сне, молчала и лишь сочувствующе глядела на меня серыми близорукими глазами.
Она не была талантлива, как Оливия. Не была богата, как Жан. И не была мужественна, как Артур. Обычная, совершенно заурядная девчонка, каких миллионы. Тоненькая, большеглазая, непритязательная. Я выбрал ее инстинктивно, подсознательно и лишь потом осознал почему. Она была мне ровней. Остальных, одного за другим, я застрелил.

Визит Женевьевы Лекруа сломал во мне что-то. До него я упрямо терпел, мучаясь еженощно, а ежедневно зачем-то заставляя себя жить. Теперь терпение иссякло. Жить больше я не хотел.
Разбить голову о стену тюремной камеры у меня не вышло. Повеситься на простыне не удалось – охрана явилась прежде, чем затянулась на шее петля. Тогда я отказался от пищи. С каждым днем я все больше слабел и становился все более безразличным.
К жизни меня вернуло письмо. От Марши. Всего несколько слов, которые я заучил наизусть и повторял сотни раз на дню, как заклинание.
«Спасибо за все, Матвей. Я обязательно вас дождусь. Марша».
Следующее письмо пришло через месяц. За ним еще и еще. Я ждал каждого из них, как свидания с единственно близким мне человеком. Я, можно сказать, жил от одного ее письма до другого.
«Держитесь, Матвей. Думаю непрестанно о вас. Марша».
«Вы не преступник, Матвей. Вы – жертва. Марша».
«Друзья моей мамы – влиятельные люди. Они ходатайствуют о пересмотре дела. Я буду ждать. Марша».
Время теперь потекло для меня по-другому. Оно ускорилось, сократило дни, растянуло ночи и мало-помалу выставило покойников из моих снов. Артур, Жан и Оливия появлялись все реже, их место заняла Марша.
Она говорила со мной, ободряла меня, утешала, поддерживала. Не только во сне, я грезил ею и наяву. Я стал мечтать. Я выйду на свободу, и меня встретит у тюремных ворот дождавшаяся, дотерпевшая Марша. Она прилетит в Марстаун, как обещала в одном из писем, и с этого дня мы будем вместе. Я верил в это, верил слепо и безрассудно, вкладывая в веру все, что во мне еще оставалось.
– Что ж, Стишков. – Начальник тюрьмы хмурился: видимо, ему очень не хотелось выпускать до срока тройного убийцу. – Вы свободны. Благодарите своих могущественных друзей.
– У меня нет друзей.
Я отсидел шесть лет. Столько понадобилось марсианскому федеральному правосудию, чтобы пересмотреть дело.
– Нет друзей, говорите? – Начальник тюрьмы прищурился, брезгливо меня оглядел. – Интересно, кто же тогда за вас хлопотал. Будь моя воля, вы бы сидели пожизненно.
– Мне помогли друзья спасенной мной девушки, – сказал я спокойно. – По их мнению, я не заслужил пожизненного.
– Спасенной девушки? – переспросил начальник. – Этой, что ли?
Он швырнул мне по столу рекламный буклет.
Марша Тинвуд. «Наедине с убийцей», – ошеломленно прочитал я. Лучший бестселлер за последние десять лет.

На «Солнечным ветре», туристическом транспланетнике класса «Альфа», я был вторым пилотом. В пятнадцати днях лета от марсианского космодрома «Солнечный ветер» потерпел крушение.
На момент катастрофы я был свободен от вахты и потому остался в живых. Я отстрелил капсулу, в которой нас оказалось пятеро, за полминуты до взрыва. Сколько же мгновений нам не хватило, чтобы уйти на безопасное расстояние от эпицентра… Пять секунд, десять? Множество раз я, перебирая в памяти каждый миг после того, как завыла сирена, пытался сообразить, где потерял их, эти злосчастные пять-десять секунд. Не будь Жан столь медлителен в беге. Не зацепись Оливия подолом платья за створку шлюза. Не ухвати Марша меня за рукав, когда я из последних сил одного за другим заталкивал пассажиров в капсулу. Не…
Я понял, что дело плохо, едва кинул беглый взгляд на кислородный регенератор. Минуту спустя я в том убедился. Регенератор был мертв и восстановлению не подлежал.
Еще через час я закончил подсчеты. Воздуха в капсуле хватило бы на месяц. Одному человеку. Двоим – на две недели. Пятерым – на шесть дней.
Радиограмма пришла, едва я подвел итоговую черту. Спасательные суда стартовали с базы и спешили в район катастрофы. Нам всем предлагалось набраться терпения и мужества. С учетом совмещения курсов первых спасателей следовало ждать через пять с половиной недель.
Фобос был в четырнадцати днях лета. Добраться до него живыми могли двое из пяти. Посадить капсулу – лишь я один.
Так Господь, в которого я не верил, сделал Богом меня. Временным. Мне предстояло решить, кому жить и кому умирать. Я знаю, какое решение принял бы Спаситель, существуй он на самом деле. Спаситель спасать бы – не стал. Никого. Умереть следовало всем пятерым – это было бы справедливо.
Я поступил не по справедливости. Я попросту выбрал одну из четырех. Купил ее жизнь у несуществующего Бога. Заплатив всем, что у меня было. И – недоплатив. Остаток платы с меня получали в неволе. Я рассчитывался муками совести. Долгие шесть лет.
Я механически читал аннотацию к бестселлеру спасенной мной Марши Тинвуд. Фразы расплывались перед глазами. «Монстр, злодей, зверь… Каждую минуту думала, что сейчас он меня убьет… Чудом осталась в живых… Мораторий на смертную казнь был ошибкой…»
– Ваша подружка стала миллионершей, – брезгливо, будто выплюнул, сказал начальник тюрьмы. – Киношники уже закупили права на экранизацию. Что смотрите, рады? – Его перекосило от гнева. – Идите, Стишков. Ну! Пошел вон!
На негнущихся ногах я добрался до выхода из начальственного кабинета. Конвойные придвинулись, подтолкнули в спину. Впервые за шесть лет на меня не надели наручники.
Путь до тюремных ворот я проделал подобно сомнамбуле. Я не понимал. У меня не укладывалось в голове. Марша сделала на несчастье миллионы. Единственный человек, которого я считал близким. Которого спас от смерти, совершив тройное убийство. Которого…
Она посылала мне письма. Писала, что думает обо мне, что ждет. «Держитесь, Матвей. Вы не преступник. Вы – жертва». А я заучивал эту фальшивку наизусть и верил. Идиот, трижды идиот и дурак.
Я внезапно споткнулся и, не поддержи меня конвойные, полетел бы на пол лицом вниз. Не она, понял я внезапно. Эта дрянь не могла их писать. Кто-то…
Тюремные ворота распахнулись, и меня толчком вышвырнули наружу.
Она стояла в двадцати шагах. Белокожая, черноволосая и черноглазая. Со строгим, аристократичным лицом.
«Всепрощение, добродетель, жертвенная любовь и тому подобная чушь», – вспомнил я внезапно. Я сделал шаг, другой. Женевьева Лекруа смотрела мне в глаза. Пристально и пытливо, как тогда, в камере для свиданий. От слабости у меня вдруг подломились колени.







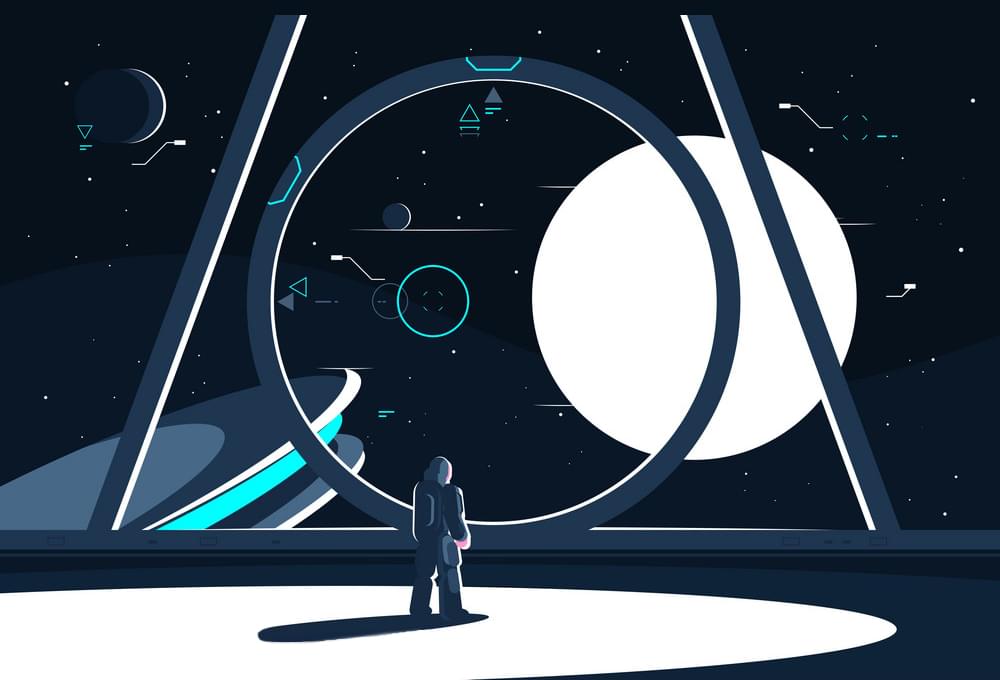 Вечно живые
Вечно живые  За горизонтом
За горизонтом Видеорепортаж -Выборгский гром 2013-
Видеорепортаж -Выборгский гром 2013- Фестиваль -Послание к Человеку-
Фестиваль -Послание к Человеку-








