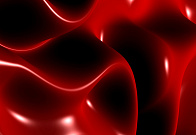Таежный контекст


Русские землепроходцы XVII века – первые этнографы Дальнего Востока – в своих отчетах упоминают больше сотни племен. Чукчи, коряки, эскимосы, камчадалы, юкагиры, тунгусы, алеуты, гиляки, натки, ачаны, гольдики, солоны, дауры… Сегодня на территории Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера насчитывают 33 коренных народа. Это не последствия вымирания. К моменту прихода европейцев население Северо-Востока вело в основном кочевой образ жизни и не имело особых причин отслеживать свою родословную. Отсюда разнообразие родов и племен с самоназваниями. Работа ученых XIX–XX веков, пытавшихся проследить их этногенез, сократила число названий в несколько раз.
Дальний Восток России условно делят на три этнографические области.
Чукотско-Камчатская населена чукчами (самоназвание – чавчу), эскимосами (иннуит), коряками (намылан, чауч), ительменами (камчадалы), алеутами (унчан).
Тайга и тундра Охотского побережья, Северо-Восток Азии и север Приамурья – дом для эвенов (старое название – ламуты, самоназвание – эвэн, ороч), эвенков (старое название – тунгусы), юкагиров (самоназвание – одул).
Амуро-Сахалинская область – самая пестрая. Здесь в более благоприятном климате живут народы, перешедшие к оседлости до встречи с русскими: нанайцы (самоназвание – нани, прежнее – гольды), ульчи (самоназвание – ольчи), удэгейцы (удэ, удэге), орочи (нани), ороки (старое название – ульта), негидальцы (самоназвание – элькан, бэйэниан), нивхи (старое название – гиляки), айны.
Первые люди на территории Сибири появились около 40 тысяч лет назад – об этом говорит анализ митохондриальной ДНК современных народов Северной Азии. Митохондриальная ДНК (мтДНК) передается по материнской линии и меняется только вследствие мутаций. Их средняя скорость известна, и ученые, сравнивая мтДНК народов, определяют, когда одна этническая группа отделилась от другой. Устойчивые последовательности мтДНК называют гаплотипами, а их родственные наборы – гаплогруппами. Современные этносы Сибири и Дальнего Востока – носители гаплогрупп М7 (распространена на востоке и юго-востоке Евразии), D (встречается в Средней Азии и у американских индейцев) и А (объединяет чукчей, эскимосов и снова индейцев). М7 и D – потомки более древней гаплогруппы M (ее носителями, к примеру, является большая часть населения Индии).
Дополнительный анализ ДНК мужской Y-хромосомы обнаруживает, скажем, что сибирские эвенки – носители гаплогруппы С. Она объединяет их с монголами, казахами, калмыками и аборигенами Австралии. Это значит, что они прямые потомки древнейшего населения Азии – тех, кто в числе первых покинул Африку и заселил Евразийский континент.
43–33 тысячи лет назад, во времена Малохетского потепления, условия в Сибири стали подходящими, чтобы часть людей, заселявших Юго-Восточную Азию, ушла на север – в Южный горный пояс Сибири: Алтай, Саяны, Прибайкалье. 33–30 тысяч лет назад последовало похолодание. Люди продвинулись на Средне-Сибирское плоскогорье и Северо-Восток Азии. 10 тысяч лет назад часть древних сибиряков ушла по Берингову перешейку на Аляску, дав начало североамериканским индейцам. А в середине I тысячелетия н. э. с юго-востока в Сибирь пришли тюркские и монгольские племена. Смешавшись с населением Прибайкалья, они дали начало тунгусо-маньчжурским народам: нанайцам, ульчам, негидальцам, удэгейцам в Приамурье и эвенкам и эвенам, заселившим сибирскую тайгу и берег Охотского моря. Потомки древнейшего населения региона сегодня – это коряки, чукчи, ительмены на севере, нивхи на Сахалине, юкагиры в Сибири. Как сформировались эти этносы, до сих пор не понятно. Родственниками среди них могут считаться только жители севера, а нивхи и юкагиры – совершенно отдельные народы.
Три этнографические области Дальнего Востока очерчивают границы природных зон, определяющих образ жизни. Несложно догадаться, что чукчи и эскимосы – оленеводы и охотники на морского зверя, таежные эвенки – оленеводы и добытчики пушнины, жители Сахалина и Приамурья – рыболовы. Именно с этой точки зрения аборигены интересовали европейцев, когда те пошли осваивать Сибирь и Дальний Восток. Сначала с ними торговали или воевали. Хотя записи о войнах с чукчами и тунгусами в историографии XX века затерты, а термины «завоевание» и «покорение» заменены на «вхождение» и «присоединение». В 1930-х годах до «инородцев» докатилась коллективизация. Началось создание колхозов, детей забрали из кочевых юрт в интернаты. Ликвидация безграмотности шла особенно тяжело: нужно было не только обучить «туземцев» русскому языку, но и разработать учебники по эвенкийскому, чукотскому, нанайскому – языкам, у которых не было письменной формы, зато были сотни диалектов.
XX век неплохо потрудился над размытием национальной идентичности. Но свои корни люди помнят. Переписью 2010 года в категории «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока» учтены 257 895 человек. Больше всего эвенков – 35 527, меньше всего – алеутов: 482. Помимо памяти, в Восточно-Сибирской тайге, на берегах Амура, на Сахалине сохраняются поселения, где люди пытаются поддерживать этнический образ жизни. С ними уже больше 10 лет связана работа Вероники Симоновой.
– В 2002 году, когда я была студенткой социологического факультета СПбГУ, судьба свела меня с коллегой, которая работала с нанайцами на Дальнем Востоке. И она так ярко об этом рассказывала, а мне так хотелось приключений… Что я купила билет на поезд – семь суток до Хабаровска. Это была моя первая полевая работа. Я месяц путешествовала по нанайским селам вдоль Амура.
Затем были эвенки северного Байкала, деревня Холодная. Это исследование, по которому я защитила диссертацию в Абердинском университете в Шотландии, заняло год. Потом еще одна экспедиция в 2013 году – к забайкальским эвенкам. Там я провела месяц. И только что я вернулась из поездки в Холодную, где не была семь лет, из совместной экспедиции с француженками-археологами. Они там не раскопки вели, а собирали интервью. Выясняли, как люди работают с материалами – деревом, камнем, – чтобы понять, как это было в прошлом.
– Насколько искусственно разделение народов Сибири и Дальнего Востока на группы? На чем основана их идентичность как этноса?
– Говорить о едином народе «эвенки» невозможно. Они всегда жили родами, у каждого свой язык и самоназвание. На северном Байкале, если вы назовете их эвенками, это будет что-то очень формальное. Они говорят: «Мы тунгусы́». А в Забайкалье, наоборот, люди себя называют эвенки, а тунгусы – это общее название группы племен.
В Холодной я давно знакома со старушкой-эвенкийкой Прасковьей Лекаревой. Ей уже 87 лет. В деревне она практически одна говорит по-эвенкийски. Есть еще два человека, но их она не вполне понимает – другой диалект, хотя ее родное село находится в 150 км. Однажды специалисты из культурного центра привезли к ней пожилую эвенкийку из Китая (в КНР эвенков даже больше, чем в России. – Авт.). Состоялась встреча. Прасковья говорит: «Да мы из одного чума вышли!» Так хорошо они друг друга понимали с этой китаянкой – будто родственницы. Почему в Китае нашлась женщина, которая с Прасковьей говорит на одном диалекте, а люди на северном Байкале ее понимают гораздо хуже? Понять, как происходило расхождение этих родов и племен, почти невозможно. Они очень разные, хотя признают друг друга своими. Есть чувство принадлежности к тайге, которое размывает привычную нам этническую общность, но создает новую, которую и можно назвать эвенки.
– Получается, местные языки отмирают? Советский проект закрепления того же эвенкийского в письменности провалился?
– Проблема была в том, что при создании учебников брали один диалект, и на его основе строилась грамматика. А диалекты сильно различаются. В этом смысле проект провалился.
Есть районы, где говорят по-эвенкийски. Но на северном Байкале, скорее, происходит смешение русского и эвенкийского. В разговоре по-русски может прозвучать: «Э, керике…» – это значит «надоели, достали». Как-то я в одной из экспедиций засиделась гостях, а меня ждали в другом месте. И мне звонят, говорят: «Ну, где ты там зачегдянилась?» Оказалось, чегдян – это замороженный капкан по-эвенкийски. Добавляем русский суффикс и приставку, получаем глагол со значением «застрять».
– Как же люди опознают своих и чужих, если не через речь?
– Какая-то общность есть. Возьмем жилище таежное, юрту. То же жилище, по идее, можно назвать чумом. Но там никогда не скажут чум. Скажут аран или дю. Но дю могут перевести как «чум». Структура этих жилищ в целом одинакова.
Или эвенкийская лепешка – она знакома всем. Все умеют распознавать следы животных. Знают, что в тайгу нельзя выходить без туюгуна – это такая длинная палка с дыркой на конце, которую можно использовать по-разному. Такой набор знаний о мире. В этой плоскости и лежит граница между тунгусскими народами. Для эвенков их соседи эвены – «похожие, но не мы». Как и нанайцы – они совсем другие, занимаются рыболовством. Идентичность этих народов складывается из практик, которые задает им территория – тайга, река или море.
На Сахалине, к примеру, есть маленький народ уилта. Когда-то у них процветало оленеводство. А сейчас уилта держат маленькое стадо – голов 12. Олени живут у них, как домашние собаки. А нужны они, чтобы поддержать идентичность. «Животные должны быть, иначе какие мы уилта?» Оленеводство для них стало символом, а не практикой выживания.

– В каких масштабах существует оленеводство у эвенков? Какими занятиями они живут?
– После распада Союза была попытка воссоздать оленеводческие общины. В Холодной, например, держали два стада. Одно на 800 голов, в другом – всего 47 животных, но редкой байкальской породы. И в обоих случаях не получилось. Молодежь не хотела идти в оленеводство – для этого не создали вовремя хороших условий.
Одной из причин, по которым угасло оленеводство, называют распространение хищников. По новым законам волков в тайге нельзя травить, можно или отстреливать, или отгонять. Но это как блох вручную ловить. Уследить за стадом в таких условиях тяжело. Кстати, интересный сюжет. В Якутии из-за этой ситуации появляется профессия… «волкодава». Это человек, который проникает в стаю, живет с ней. Понимает повадки зверей, пути освоения пространства. Разбирается в иерархии и узнает, какого волка нужно убить, чтобы стая изменила свое поведение таким-то образом, а какого нельзя убивать ни в коем случае. Так вот люди, которые могут понимать и менять поведение хищников, – на вес золота.
На северном Байкале на оленеводство положиться невозможно. Иная картина, например, на Кольском полуострове, где сохранилась «совхозная логика» оленеводства. Сегодня она оказалась эффективнее традиционных общин – по сути, капиталистических.
Остаются охота, рыболовство – Байкал и ближайшие реки. В Байкале водится нерпа, у эвенков квоты на ее вылов. Развивается этнотуризм, особенно на горячих источниках. Ну, и огороды, собирательство: травы, ягоды, грибы. В привычной нам инфраструктуре рабочих мест немного: магазин, школа, фельдшерский пункт, музей, дом культуры, администрация. Молодежь уезжает в города, там подработки ищет.
В Якутии ситуация с оленеводством намного лучше. Там я впервые наблюдала, как семьи кочуют. Обычно можно видеть такой гендерный разрыв: в тундру и в тайгу уезжают мужчины, а женщины остаются в поселении.
– Этот способ кочевания появился после коллективизации?
– Конечно, с переходом к оседлости все изменилось. Сами национальные поселения созданы в ранний советский период.
Женщинам никто не мешает уйти в тайгу. Но уже сложилась другая культура жизни. Женщины хотят телевизор, домашние условия, город. Мужчинам сложнее находить себя в новых средах. Многим это и неинтересно, они остаются при охоте, рыбалке. А женщины уезжают, чтобы попробовать себя в городах.
Поэтому мне было приятно увидеть кочующие семьи. Это другой тип хозяйства. У кочевников-мужчин обычно времянка: пришел, развесил шкуры и носки, сварил что-то, выпил 100 грамм, лег спать. Семейная палатка – тоже временная. Но там целый интерьер! Все чистенькое, цветное. Мытье пола – каждые два дня. Что такое мытье пола в палатке? Пол застилается лиственничными ветками, чтобы приятно пахло. И как только ветки начинают увядать, все это сгребается и застилается заново.
– Какая сейчас религия у жителей тайги?
– Понятно, что это анимистические представления, их просто так не победить. Шаманов у них, конечно, уже нет. Остались только воспоминания о тех, кто был в 1930–1950-е годы. Потому что шаманство – это социальный институт. Невозможно самому по себе быть шаманом, нужно, чтобы община выполняла твои требования, создавала вокруг тебя всю эту атрибутику. К концу XX века как институт это было уничтожено. Но каждый человек обладал знаниями: как общаться с духами, что можно, что нельзя. Кормить огонь у эвенков принято.

Есть культ медведя как существа, с которым нужно быть на «вы». В прекрасном фильме по повести Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя» как раз снимались эвенки из Якутии. Там показан ритуал «кук». Медведя убили, его едят, по кругу передают череп и, отрезая мясо, говорят: «Кук». «Это не мы тебя убили, это тебя луча убили!» (Луча – это русские.) Древняя практика перекладывания ответственности – чтобы дух медведя не пришел мстить.
Существование мира духов не подвергается сомнению и обсуждается свободно. Много историй о духах места. Помню, перед отъездом мы с француженками устроили небольшой пикник, а потом зашли в дом забрать последний рюкзак. И отец нашего хозяина как закричит: «Это что такое? Ты зачем это принесла?!» Оказалось, одна из девушек внесла в дом обгоревшую палку, в лесу подобрала. А ничего горелого из тайги домой нести нельзя – это к большой беде. У каждого места свои духи, и что там горело, там и должно остаться.

– Можно ли сказать, что все-таки культура этих малых народов размывается?
– Сохранить традиционную культуру неизменной – это логика музея. С этой точки зрения принято считать, что люди ассимилируются, происходит размытие культуры. Я увидела процесс обратный – что они адаптируют к себе разный контекст, вбирают все это для процветания в своем мире. В Забайкалье, например, вместо юрт давно используют геологические брезентовые палатки. Внутри – печка-буржуйка. Но чему они служат? Той же таежной жизни.
Наука
Наталья Нифантова


 «Извините за все»: дар быть японцем
«Извините за все»: дар быть японцем Жизнь в застывающем бетоне: что такое депрессия
Жизнь в застывающем бетоне: что такое депрессия Разложение по полочкам
Разложение по полочкам