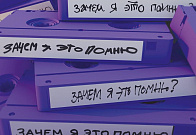Ум других


Я в сотый раз забиваю слово «менталитет» в поиске по документу и получаю нулевой результат. Неумолимая машинная логика фиксирует: для этнопсихологии (пособия по которой я штудирую третий день) понятия «менталитет» будто не существует. Космополиту вроде меня от этого, впрочем, не легче. Сами пособия все равно читаются как учебники по «полит-некорректности»: «Каждый представитель той или иной национальной общности мыслит, переживает, ведет себя, общается и действует так, как диктуют ему его этническая среда и многолетний опыт национального развития». То есть, с точки зрения науки, можно думать по-русски, чувствовать по-испански и вести себя как эскимос. Только зовется все это национальной психологией.
Найти место менталитета в обыденном смысле слова в системе понятий этнопсихологии не просто. Для нас менталитет – это что-то вроде набора качеств, обусловленных этнической и культурной принадлежностью. Мы не привыкли разделять свойство объекта и его проявление. Но вот для этнопсихологии это разные вещи. Характер, темперамент, склад ума, чувства, привычки – это статические или системообразующие компоненты национальной психологии. Слова кажутся вполне понятными, но на самом деле об этих компонентах мы не можем сказать почти ничего. Они не поддаются непосредственному изучению, потому что не изобретены еще средства залезть в голову к индивиду или нации и посмотреть, что там творится. О характере, темпераменте и прочем мы можем судить только по их внешним проявлениям – динамическим или функциональным компонентам, которые еще зовутся национально-психологическими особенностями. Вот, к примеру, исследователи посчитали, что в течение часовой беседы средний финн делает один жест. Итальянец – восемьдесят. Француз – сто двадцать. А мексиканец вообще машет как ветряная мельница, его результат – сто восемьдесят. На этом основании мы можем сделать кое-какие выводы о национальном темпераменте и привычках. Но не более того.
Так что же из перечисленного считать менталитетом нации: характер, темперамент или их проявления? Если вы желаете найти аналогию для популярного словечка, можете смело смешивать все. Если же ваша цель – действительно разобраться, что такое менталитет, забудьте о характере. Потому что из психологии наиболее близко к этому понятию определение «склад ума». Но если быть точным, то расшифровку придется искать в другой сфере знания.
Вот и настал черед этимологии. Впервые в 1922 году интересующее нас слово употребил в научном обороте французский философ и антрополог Люсьен Леви-Броль (Lucien Lévy-Bruhl), автор труда «Первобытное мышление», которое в оригинале никакое не мышление, а тот самый менталитет – La mentalité primitive. Термин был сложен из латинских корней: mentis – ум и alis – другие. В представлениях Леви-Броля этот «другой ум» был противоположностью мышления его современников. Он был «до-логическим», склонным к мистицизму, делавшим умозаключения не по принципам анализа, синтеза и аналогии, а по закону партисипации (причастности). В первобытном мышлении человек мог одновременно быть человеком и, к примеру, попугаем, если эта птица считалась тотемом племени. И в этом не было никакого противоречия. Потому что противоречие вообще не относится к категориям, которыми la mentalité primitive оперирует.

Вот пример решения задачки на понимание, выдернутый из книги 1974 года, но вполне иллюстративный. Диалог исследователя и жителя Либерии:
«Экспериментатор: Паук и черный олень всегда вместе едят. Паук ест. Ест ли олень?
Испытуемый: Но меня там не было. Как я могу ответить на такой вопрос?
Экспериментатор: Не можете ответить? Даже если вас там не было, вы можете ответить на этот вопрос (повторяет вопрос).
Испытуемый: Да, да, черный олень ест.
Экспериментатор: Почему вы говорите, что черный олень ест?
Испытуемый: Потому что черный олень всегда весь день ходит по лесу и ест зеленые листья. Потом он немного отдыхает и снова встает, чтобы поесть».
Выйдя в свет, книга Леви-Броля наделала много шуму. Однако в последующих работах ученый слово «менталитет» использовал все реже. На то была веская причина. Коллеги по цеху вполне резонно указали на то, что его противопоставление ума первобытного и современного европейского несколько поспешно. Хотя никто и сегодня не отрицает, что западная цивилизация логоцентрична, за примерами нашего собственного алогизма далеко ходить не надо. Когда на Пасху мы говорим «Христос воскресе!», гадаем на Святки или просто покупаем парфюм, обещающий сделать нашу сексуальную привлекательность подобной гравитации планет-гигантов, – мы поступаем алогично. Наше рацио твердит, что воскрешения невозможны, никакой связи между будущим и валенком, брошенным за забор, не существует, а парфюм – просто отдушка и спирт, но мы делаем то, что делаем.
Однако поспешность выводов не отменила концептуальной правоты Леви-Броля. Его исследование заставило историков, культурологов, антропологов глубоко призадуматься. По сути, до этого момента, когда в любом научном труде речь шла о человеке вообще, его описание совпадало с характеристиками современных людей. Получалось, что какой-нибудь Юлий Цезарь или Людовик XIV по складу ума ничем не отличается от нашего соседа по лестничной клетке. Да так ли это? Ведь у них, как минимум, совершенно разный жизненный опыт, условия существования, пресловутое бытие, которое определяет сознание.
Так понятие о менталитете или ментальности попало в историческую науку. Здесь оно приобрело совсем не то толкование, которое мы подразумевали в начале нашего рассказа. Менталитет для истории – это картина мира, если хотите, фильтр, призма, через которую человек смотрит на действительность. И тут выделяются особенности менталитета в разные эпохи, а не в разных странах. Существует менталитет античный, средневековый, менталитет Нового Времени… Главными сторонниками такого подхода к истории были основатели журнала «Анналы экономической и социальной истории» (1929) Люсьен Февр (Lucien Febvre) и Марк Блок (Marc Bloch). Февр в своей книге «Бои за историю» (Combats pour l'histoire, 1953) обращал внимание, что средневековые источники невозможно читать, не поражаясь тому, сколь непостоянны были люди в своих чувствах и настроениях. Он удивлялся им, «с одинаковой легкостью обнажающим меч и открывающим друг другу объятия: пляска сменяется плачем, запах крови – запахом роз», и одновременно искал объяснение этой переменчивости. И находил его в том, что сама жизнь до XVI века, а то и позже, была полна контрастов. Для нас смена дня и ночи, даже лета и зимы – это по большей части изменение вида из окна. Для человека Средних веков это неумолимое чередование света, шума, действия с полной тьмой и тишиной. Особенно если говорить о крестьянах и обычных горожанах, которым те же свечи и дрова были не по карману. Понятным следствием такой жизни был и соответствующий ритм мышления, быстро меняющего свой вектор.
Но если картина мира формируется под влиянием внешних условий, то здесь недалеко и до зависимости склада ума, мышления (читай – менталитета) от политической географии. Ведь внешние условия – это не только холод-голод-болезни или, наоборот, безбедная и предсказуемая жизнь в свете энергосберегающих ламп. Это еще и культурные традиции, и воспитание. Проще говоря, мы видим мир так, как нас учат видеть. Вернее, куда нас учат смотреть. Такой подход привел к выделению трех базовых типов ментальности. Западной – дедуктивно-познавательной, стремящейся «загнать» мир в форму понятий и суждений. Восточной – интровертно-интуитивной, направленной как бы внутрь человека и склонной понимать действительность через символы и мифы. И традиционной, которой «по барабану» и понятия, и символы, – она ориентирована на решение практических задач. Как в бородатом анекдоте: «А что тут думать? Прыгать надо!»

Не правда ли, что-то напоминает? Например, традиционный трехчастный шаблон, который накладывают на бедный глобус весь XX век: Запад, Восток и «третий мир» с вечно «развивающимися» странами. Сразу начинает попахивать даже не «западоцентризмом», а прямо-таки дискриминацией по признаку цивилизации.
Собственно, это было вполне естественно для начала XX века, когда в социальную психологию и антропологию пришел особый термин для обозначения этой направленности мышления – сенсотип. Сторонники гипотезы говорили даже не об абстрактном мироощущении разных культур и народов, а о буквально физиологическом доминировании у определенных рас тех или иных органов чувств, которое и формирует специфическую картину мира. Предполагалось, к примеру, что у африканцев развито слуховое восприятие, отсюда – хорошее чувство ритма и способности к языкам, но трудности в изучении точных наук. Бывшим колонизаторам же полагалось быть носителями визуальной культуры. И даже ее конкретного типа. Возникли любопытные теории, вроде «мира плотников». Последняя утверждала, что европейцы, с детства привыкшие наблюдать искусственные формы объектов, «подгоняют» контуры всех предметов под прямые «плотничьи» углы. Пользы, правда, от этой теории было немного. А к началу 1970-х, как раз когда уже становилось неприлично называть африканцев «черными», было доказано отсутствие превосходства разных рас в зрительном или слуховом восприятии.
Вы еще не совсем запутались? Я вот уже основательно. А все дело в том, что картина мира – как загадочная русская душа: понятие, малопригодное для практического использования. Это все те же «потемки», судить о которых мы можем лишь по внешним проявлениям – поведению. Так может, отбросить на время культурологические абстракции и сосредоточиться на том, что можно увидеть и «потрогать»?
Если смотреть на национальный менталитет как на особенности поведения, сразу встает вопрос: а не может ли он передаваться по наследству? Вдруг испанская кровь и правда «горяча», а скандинавская – настоящий «айс»? Самая основа нашего характера, во многом определяющая и поступки, – темперамент – действительно может наследоваться. Но речь не идет о каком-то гене вспыльчивости или скромности. Темперамент задается группами генов, и, чтобы он проявился, эта группа должна не только не потеряться в процессе «смешивания» мамы и папы, но и быть поддержанной воспитанием. Тем не менее, вполне научно говорить о наследовании таких полюсных качеств, как общительность или необщительность, низкая или высокая двигательная активность, позитивный или негативный эмоциональный фон.
Но не спешите примерять проявление этих свойств к разным народам. Даже у однояйцевых близнецов схожесть темперамента колеблется в районе 0,53–0,61 (если брать за единицу полное совпадение). Для родных братьев и сестер это примерно 0,11–0,17. Представьте, как размываются черты в целой нации. И ладно бы речь шла о каком-то малочисленном племени, в котором циркулирует один и тот же генетический материал. Но ведь нация – это не потомки одних родителей, это просто люди, которые считают себя общностью.
Видимо, от картины мира никуда нам не убежать. Мы все, конечно, слышали, что предприимчивые американцы – потомки авантюристов, рискнувших бросить насиженные места, и протестантов, помешанных на труде. А скандинавам из поколения в поколение приходилось противостоять суровой северной природе, и потому бороды их густы, а характер – нордический. Но, откровенно говоря, есть все основания полагать, что американцы предприимчивы, так как помнят, что они потомки авантюристов, а норвежцы и шведы считают своими предками гордых викингов. Тогда выходит, что носители (или даже переносчики) русского менталитета – это скорее самовар, лапоть и образ Емельяна Пугачева, чем собственно жители современной Российской Федерации…
Менталитет не зря означает «другой ум» или даже «ум других». Ведь рассуждать о нем можно, лишь отстранившись. Говорить о собственном менталитете почти невозможно. Как только ты осознаешь его таковым, он рассыпается и может остаться лишь как сознательно культивируемый образ.
Подробность из личной жизни автора в качестве эпилога.
Моего дедушку звали Зуфар Зарифович, и был он человеком весьма вспыльчивым и эмоциональным. Любил притопнуть ногой, если что было не по нему, и для подкрепления оценки прикрикнуть что-нибудь на родном татарском. И когда сегодня меня накрывает волна гнева, я чувствую, как клокочет во мне тот самый «менталитет». А потом смотрю в напуганное лицо человека, по которому секунду назад хотела нецивилизованно «съездить», и считаю до трех. За это время я вспоминаю: что бы сейчас ни произошло, ни мой дедушка, ни весь татарский этнос тут совершенно ни при чем. Это мои слова, мои поступки, и ширмой менталитета я могу прикрыться от других, но только не от себя.
Общество
Наталья Нифантова











 Колесница истории
Колесница истории Позитив с музейной полки
Позитив с музейной полки  Синтетическая выпивка
Синтетическая выпивка Ганемановские пробы
Ганемановские пробы